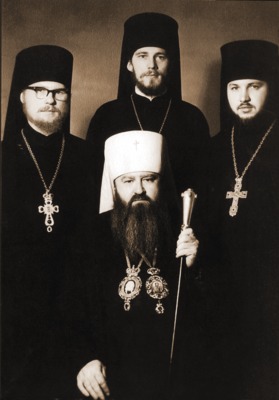Детство, юность и начало церковного служения будущего Патриарха
С самого раннего возраста будущий Патриарх знал, что хочет служить Церкви: «Я всегда хотел быть священником, не помню того времени, когда бы я не хотел быть священником. Вскоре после того, как я научился ходить и говорить, я потребовал, чтобы у меня было свое облачение. Одна монахиня, алтарница в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Ленинграде (это первый храм, где служил мой отец), сшила мне из части старого протодиаконского ораря епитрахиль, а мама сделала палицу. Какую-то ткань я использовал в качестве фелони – и «служил»... Жили мы тогда очень бедно: помимо совсем маленькой комнатки, где находились книги отца и его письменный стол, у нас была одна 19-метровая жилая комната на Васильевском острове (на пять человек семьи). В этой 19-метровой комнате и прошло мое детство, там я и «служил»» («Сопротивляться злу и утверждать добро». 2001. С. 11).
В 5 лет мальчик серьезно заболел пневмонией; болезнь длилась долго, отступила только по молитвам к прав. Иоанну Кронштадтскому. «Мы жили в послевоенном Ленинграде очень стесненно, в комнате было совсем мало мебели и не было никаких украшений, – рассказывал К. – Лишь на стене висела фотография отца Иоанна Кронштадтского – совсем небольшая, выполненная в цвете. Это была скорее старинная гравюра, где праведный был изображен в малиновой бархатной рясе с отворотами. В детстве я любил рассматривать этот портрет. И вот, когда мне стало совсем плохо, мама дала фотографию батюшки. Я не помню, что говорил и как молился, только помню, что портрет был постоянно со мной. А через несколько дней я был совершенно здоров. И тогда я попросил маму поехать на Карповку. Сначала она меня отговаривала, потому что я был еще слаб, а потом сказала: «Поехали». Мы приехали и у всем хорошо известного окошечка под пристальным взглядом дежурившего рядом милиционера благодарили отца Иоанна Кронштадтского за посетившее нашу семью чудо» (Торжества по случаю 100-летия преставления св. прав. Иоанна Кронштадтского проходят в С.-Петербурге // РПЦ: Офиц. сайт ОВЦС). В возрасте 6 лет Володя вместе с родителями путешествовал в Псково-Печерский в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь, где встретился с известным старцем иеросхим. Симеоном, который на всю жизнь стал для Патриарха образом святого, обладающего «неоскудевающим радованием о Господе и мире Божием»(см.: Комсомольская правда: Газ. 2009. 29 янв.).
Школьные годы Патриарха пришлись на время массированного наступления власти на Церковь. В постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» предлагалось «преподавание предметов (история, литература, естествознание, физика, химия и т. д.) насытить атеистическим содержанием», а в развивающем эту тему постановлении идеологической комиссии при ЦК КПСС предписывалось «усилить антирелигиозную направленность школьных программ». Школьные учебники активно перерабатывались в этом направлении. В таких условиях ребенку из верующей семьи нужно было проявлять особую стойкость, чтобы не поддаться давлению со стороны учителей, одноклассников и дирекции. Отказ от вступления в пионерскую и в комсомольскую орг-ции делал Володю Гундяева, как и др. верующих детей, изгоем в советской школе. В этой области у Гундяевых уже имелся свой нелегкий семейный опыт: 19 мая 1929 г. газ. «Безбожник» опубликовала ст. «Дети машиниста Гундяева». Безымянный рабкор писал: «В школе они ведут себя вызывающе. Рассказывают другим о жизни святых. Убегают с уроков обществоведения…» - и ставил вопрос ребром: «Нужно задуматься над тем, стоит ли учить таких в советской школе». Спустя 30 лет история повторилась в новом поколении семьи Гундяевых. «Я шел в школу как на Голгофу,- вспоминал Патриарх.- ...меня вызывали на педсоветы, на диспуты с преподавателями и учениками, и я всегда побеждал, потому что в советское время наши учителя к таким диспутам были не готовы, а я старался быть готовым» («Россия может дать новую жизнь Вселенной»: Интервью митр. Кирилла / Записал: Е. Суворов // Вера-Эском. Сыктывкар, 2005. № 501. Окт.). Школьные годы закалили характер Патриарха. В эти же годы, и не в последнюю очередь благодаря подготовке к вынужденным школьным диспутам, были заложены основы его образования: домашняя религ. б-ка (более 3 тыс. томов, в т. ч. практически недоступные в то время труды Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, о. Сергия Булгакова) стала базой для самообучения.
Преследование священнослужителей в послевоенные годы часто принимало формы экономического давления: на священника накладывались чрезмерные налоговые обязательства, неисполнение к-рых грозило арестом и лишением права на служение. Не избежала такого давления и семья прот. Михаила Гундяева, вынужденная для выплаты наложенного на главу семьи налогового бремени занять деньги у друзей и знакомых; на долгие годы семья оказалась раздавлена этим долговым бременем (долги окончательно смог вернуть только буд. Патриарх спустя много лет). Поэтому после 8-го класса Владимир, не желая материально обременять родителей, ушел из дома и поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, трудился там в 1962-1965 гг., одновременно обучаясь в вечерней школе, где отдавал предпочтение точным наукам, преимущественно физике и химии.
Эпоха 60-х гг. XX в. была временем всеобщего интереса к точным наукам, когда профессия ученого обладала огромной притягательностью и авторитетом. Владимир планировал по окончании школы поступить на физический факультет Ленинградского ун-та и, уже получив высшее светское образование, посвятить себя священнослужению. Однако старший брат Николай, к тому времени учившийся в Ленинградской ДС, организовал его встречу с Ленинградским митр. Никодимом (Ротовым). Эта встреча стала определяющей в судьбе буд. Патриарха, так ее описавшего: «Выслушав меня, он сказал: «Знаешь, Володя, ученых в нашей стране очень много, если их поставить друг за другом, то цепочка дотянется до Москвы, а вот священников мало. Кроме того, неизвестно, удастся ли нам принять тебя в семинарию после института. Так что поступай-ка ты сразу в семинарию» (Ларина Н. Митрополит Кирилл: «Я отдал себя в руки Божии» // Радонеж: Газ. 2008. № 7 (191)). Выбор был сделан, и в 1965 г. 18-летний В. Гундяев поступил в Ленинградскую ДС, ректором к-рой являлся проф. прот. Михаил Сперанский, ученик Н. Н. Глубоковского. В нач. 60-х гг. Ленинградские духовные школы находились на грани закрытия, власти усиливали давление на Церковь, требуя сократить количество духовных учебных заведений, ограничить число учащихся, вмешивались в набор студентов, не допуская к поступлению лиц с высшим светским образованием, из интеллигентных семей, развитых и подготовленных. Одной из первых пострадала Ленинградская ДС. Патриарх вспоминал: «Семинарию и академию готовили к закрытию. Осуществлялся довольно жесткий отбор студентов. Делалось это при активном вмешательстве властей. И начиная с 1960 г. в семинарию брали очень мало слушателей. Причем принимали людей очень низкого интеллектуального уровня, и чаще всего душевнобольных. А те, кто уже учился в академии и заканчивал ее, это были молодые, здоровые, симпатичные, достаточно развитые люди. И эта граница воспринималась мною видимым образом. Входишь, бывало, на трапезу, за столами «гудят» полные академические курсы: четвертый, третий, второй. Первый - уже поменьше. А за семинарскими столами - мрак и уныние» (L'Évangile et la liberté. 2006. P. 30). В этих условиях академия и семинария сумели сохранить высокий интеллектуальный уровень профессорско-преподавательской корпорации.
В нач. 1966 г. митр. Никодим назначил Владимира личным секретарем. Уже сформировав мнение о выдающихся способностях студента Гундяева, митрополит поставил условие - ускоренное овладение знаниями: Владимир за один год должен был пройти материал и сдать экзамены за 2 курса. С этого времени началось церковное служение В. Гундяева, насыщенное непрестанным трудом и постоянно возрастающим перечнем обязанностей. Примером для него был 36-летний митр. Никодим, к-рый наряду с руководством одной из крупнейших рус. епархий одновременно возглавлял Отдел внешних церковных сношений Русской Церкви ОВЦС (см. ст. Отдел внешних церковных связей), фактически ставший в эти годы центром принятия решений по внутренней и внешней политике Церкви. Именно митр. Никодим сумел доказать властям, что активное участие Церкви в международной миротворческой деятельности в условиях «холодной войны» и идеологического противостояния СССР и стран Запада требует и изменений во внутренней гос. политике в отношении Церкви, ее смягчения в отношении всемирно известных церковных центров (прежде всего мон-рей). Митр. Никодим настаивал на том, что власть не должна препятствовать формированию нового поколения епископов, богословски образованных и энергичных, способных достойно представлять Церковь в международных контактах.
По свидетельству митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова) об ОВЦС в сер. 60-х гг. XX в., «государство тогда пошло на активное использование Церкви в своей внешней политике. Митрополит Никодим, исходя из своих глубоких патриотических убеждений, был активно в это вовлечен. И в то же время он убедительно ставил вопрос перед властями, что для участия в миротворческом служении нужны молодые, образованные священнослужители. В тех условиях это была единственная «кузница» таких кадров в Русской Православной Церкви. В результате создано своего рода мощное ядро в нашей Церкви, состоящее из епископов, клириков и мирян, богословски образованных и мыслящих, способных к творческому диалогу, внутриправославному и общехристианскому, а также к диалогу с современным миром. Советское государство желало от Церкви только политической пользы, но благодаря напряженным усилиям и творческой мысли митрополита Никодима постепенно возрастала внутренняя сила Церкви» (Ювеналий (Поярков), митр. Предисловие // Человек Церкви: К 20-летию со дня кончины и 70-летию со дня рождения Высокопреосвященнейшего митр. Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы (1929-1978). М., 1998. С. 8).
Характеризуя деятельность митр. Никодима, К. выделил в качестве главной задачи своего учителя «целенаправленное осуществление программы обновления епископата Церкви, в то время крайне малочисленного, достигшего преклонных лет и к тому же стремительно сокращавшегося в силу естественных и печальных причин. Апеллируя к необходимости воспитания молодых кадров для более эффективного участия Русской Церкви в международных миротворческих инициативах и в экуменическом движении, владыка митрополит добился от светских властей согласия на епископские хиротонии для большой группы своих ставленников и пострижеников. Подобно полководцу, решающему большую стратегическую задачу, митрополит Никодим вводил свежие силы из своего личного резерва в духовную битву за будущее Церкви, а значит, и России» (Слово митр. Смоленского и Калининградского Кирилла на церковно-научной конференции, посвященной 30-летию со дня кончины митр. Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), 4 сент. 2008 г. ЛДА. Санкт-Петербург // РПЦ: Офиц. сайт ОВЦС). Одним из таких «резервистов» митр. Никодим считал своего молодого помощника, интенсивно готовя его к буд. служению. В эти годы В. Гундяев, сопровождая митр. Никодима, участвовал в заседаниях III Всехристианского мирного конгресса в Праге, IV ассамблеи Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) в Уппсале (Швеция), в заседаниях центрального комитета ВСЦ и молодежной комиссии Христианской мирной конференции, знакомясь с международной деятельностью Русской Церкви.
Работа с митр. Никодимом коренным образом поменяла планы Владимира на будущее. «Я, поступив в семинарию, не думал о монашестве…- вспоминал впосл. Патриарх.- Моей целью было окончить семинарию и академию, получить богословское образование. Я мечтал быть богословом и, может быть, совмещать это с приходским служением. Но когда я был назначен на пост секретаря митрополита Никодима, то стали возникать мысли о монашестве. Во-первых, потому, что владыка подчеркивал важность монашеского служения для современной жизни Церкви. А во-вторых, образ жизни: мне необходимо было отдавать себя служению в гораздо большей степени, чем при обычной семейной жизни. Я невольно стал задавать себе вопросы о том, как же сложится моя судьба дальше. Митрополит говорил, что работать надо так и еще больше. Что другого пути нет, нас мало» (цит. по: Иларион (Алфеев). 2009. С. 54). В 1969 г. 22-летний В. Гундяев подал прошение о пострижении в монашество. К этому времени он, пройдя 8-летний цикл обучения за 4 года, уже заканчивал учебу в ДА. 3 апр. 1969 г. митр. Никодим постриг Владимира в монашество с именем в честь равноап. Кирилла, просветителя славян. 7 апр., в праздник Благовещения Пресв. Богородицы, К. был рукоположен митр. Никодимом во диакона, 1 июня того же года - во иерея. Одновременно с прохождением священнической практики К. сдавал экстерном экзамены за последний курс академии, получив по всем предметам оценку «отлично». Спустя год по окончании академии, в июне 1970 г., К. была присуждена степень кандидата богословия за диссертацию «Становление и развитие церковной иерархии и учение православной Церкви о ее благодатном характере», в которой на основе творений ранних отцов Церкви (Игнатия Богоносца, Иринея Лионского и др.), с учетом трудов богословов XX в. рассматривается становление епископата в древней Церкви. Научным руководителем диссертанта был прот. Ливерий Воронов. После защиты диссертации К. был оставлен при ЛДА профессорским стипендиатом, преподавателем догматического богословия и помощником инспектора. Одновременно он исполнял обязанности наставника 1-го класса семинарии и личного секретаря митр. Никодима.
В 1971 г. митр. Никодим поручил К. самостоятельно принять решение о вступлении духовных школ РПЦ в Синдесмос (англ. SYNDESMOS) - Всемирное братство правосл. молодежи. Синдесмос был основан в 1953 г. по инициативе правосл. богословов и церковных деятелей, в т. ч. протоиереев Иоанна Мейендорфа и Александра Шмемана, и первоначально действовал только в Зап. Европе и США. С 1964 г. в орг-цию вошли представители правосл. духовных учебных заведений Вост. Европы. В СССР, где главной задачей атеистической пропаганды власть полагала полное ограждение от религ. влияния прежде всего молодежи, о деятельности такой орг-ции не могло быть и речи. Позднее Патриарх вспоминал о том, что к 1971 г. митр. Никодиму удалось несколько поколебать позицию властей, но риск подставить Церковь под очередной удар был очень велик: «Как Церковь, так и духовная жизнь народа находились под жестким контролем правительства, и большей частью власти не желали появления православного молодежного движения, чтобы не допустить активности ни Церкви, ни молодежи. Этого не хотели власти, но горячо желала Церковь, и мы были обязаны найти верное решение… чтобы вдохновить такое церковное движение. Но нужно было сделать так, чтобы не вызвать нестроения в Церкви и не спровоцировать ужесточение церковной политики властей». Одновременно Синдесмос «мог бы стать средством к тому, чтобы оживить и вдохновить православное молодежное движение и в стране, и в Церкви, мог бы обогатить нас опытом молодежной работы, навыки которой были давно утеряны» (цит. по: Юревич Д. Синдесмос и Санкт-Петербургские духовные школы // ХЧ. 1999. № 18. С. 26-80). Решение о вступлении Русской Церкви в Синдесмос он должен был принять непосредственно во время ассамблеи Синдесмоса, на к-рую К. прибыл с 2 уже подписанными митр. Никодимом письмами - о вступлении в эту орг-цию и о том, что «решение откладывается». Выбор он сделал сам - духовные школы Московского Патриархата вступили в Синдесмос. К. был избран членом исполнительного комитета Синдесмоса. Это стало его первым дипломатическим послушанием.
12 сент. 1971 г., в праздник блгв. кн. Александра Невского, К. был возведен в сан архимандрита, 19 окт. того же года Свящ. Синод назначил его представителем Московского Патриархата при ВСЦ в Женеве. Это назначение было неожиданным и не очень желанным. К. готовился к другому - к дальнейшей учебе и к богословскому поприщу. «Митрополит Никодим мне говорил: «Заканчивай академию поскорей, потому что потом у тебя появится возможность поехать для научной специализации за границу». Когда я его спросил, куда, он ответил: «Скорее всего, в Оксфорд». Он аргументировал это тем, что помимо прекрасных возможностей для богословского образования там еще и очень хороший православный приход. Но прошло всего 2 года, и учеба в Оксфорде обернулась работой в Женеве. Митрополит Никодим, помня о своем обещании, в утешение мог сказать только одно: «Следующее поколение будет учиться в Оксфорде, а твоему поколению нужно работать»» («Сопротивляться злу и утверждать добро». 2001. С. 15). Отношения Русской Церкви с ВСЦ были далеко не простыми. В 1948 г. на Совещании правосл. Церквей в Москве было принято решение об отказе от участия в этой влиятельной международной христ. орг-ции. Только спустя 10 лет, после тщательного изучения тех возможностей, к-рые эта международная трибуна давала для свидетельства о Православии и для защиты Русской Церкви от нового этапа гонений со стороны гос-ва, было принято принципиальное решение о возможности участия в ВСЦ. 30 марта 1961 г. Свящ. Синод постановил «считать вступление РПЦ в ВСЦ своевременным». В 1961 г., на 3-й ассамблее ВСЦ в Нью-Дели, РПЦ стала его полноправным членом. Примеру Русской Церкви последовали и др. участники Совещания 1948 г. При вступлении в ВСЦ правосл. Церкви сделали «Заявление», в к-ром четко изложили правосл. видение христ. единства: «Православные не могут принять идею «равенства деноминаций» и не могут рассматривать христианское воссоединение просто как межденоминационное урегулирование. Православная Церковь не конфессия, не одна из многих и не одна среди многих конфессий. Для православных православная Церковь - это именно Церковь… Православная Церковь… имеет особое и исключительное место в разделенном христианском мире как носитель и свидетель традиций древней неразделенной Церкви, из которых происходят все существующие деноминации путем упрощения и отделения… Единство может быть восстановлено деноминациями их возвращением к общему прошлому» (Православие и экуменизм: Док-ты и мат-лы, 1902-1998. М., 19992. С. 248-249).
К. так сформулировал цели своей работы как представителя Русской Церкви при ВСЦ: «...чтобы Русская Церковь лучше знала, что происходит в мире, и для того, чтобы мир лучше знал, что такое Русская Церковь» (L'Évangile et la liberté. 2006. P. 28). Трибуна ВСЦ была открыта для обсуждения любых вопросов, в т. ч. о положении Церкви и верующих в СССР. Отвечая на них, нужно было всегда помнить, что непродуманное выступление могло спровоцировать власти в СССР на новые репрессии. Приходилось учиться недомолвкам, эзопову языку: «Нас спрашивают: «Свободна ли Церковь в вашей стране?» Мы отвечаем, что Церковь действует настолько, насколько ей позволяют действовать законы и сложившаяся политическая практика. Если затем следовал вопрос о воскресных школах, то звучал ответ, что у нас нет воскресных школ и религиозного образования, потому что это запрещено законом. «А что у вас есть?» - «У нас есть право совершать богослужения»». На самый болезненный вопрос о находящихся в заключении исповедниках за веру «ответ всегда был такой - есть среди христиан люди, находящиеся в заключении, относительно которых существует официальная точка зрения власти, что они были посажены в тюрьму не по своим религиозным убеждениям» (цит. по: Иларион (Алфеев). 2009. С. 60). Церковные дипломаты активно использовали международной фактор для облегчения судьбы тех, кто были репрессированы за веру. Патриарх вспоминал: «Как представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей я имел возможность, приезжая в Москву, посещать Совет по делам религий и докладывать о настроениях мировой христианской общественности. И я активно проводил мысль о том, что репрессии против отдельных личностей очень не полезный для престижа нашей страны фактор. Я мог это не просто декларировать, но и доказать, потому что имел широчайший круг общения среди очень известных людей как в христианском, так и в дипломатическом мире». Патриарх свидетельствует: «За все время пребывания за границей я ни разу не покривил душой. Нет ни одного факта, в отношении которого мне бы приходилось раскаиваться» (Там же. С. 60-61). К. активно участвовал во всех мероприятиях ВСЦ, с 1975 г. вошел в центральный и исполнительный комитеты ВСЦ и вплоть до 1998 г. участвовал в их работе, не пропустив ни одного заседания. В 1-й пол. 70-х гг. К. стал постоянным участником богословских диалогов РПЦ с представителями др. конфессий.
Три года, проведенные в Женеве, дали К. как огромный опыт в церковно-дипломатической области, так и возможность общения с рус. духовенством и верующими за рубежом. В храм Рождества Пресв. Богородицы в Женеве, весьма скромный по своим размерам, вначале ходило очень мало людей: контакты между служителями Церкви и посольскими работниками не поощрялись, верующие вынуждены были скрывать свою религиозность. Но постепенно при новом настоятеле, образованном и общительном, храм стал наполняться прихожанами.