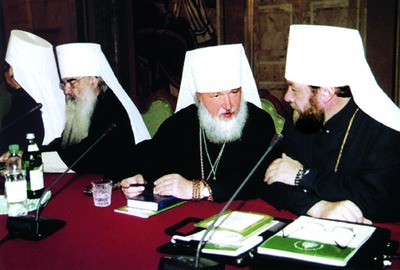Участие в межхристианских отношениях
Начало 90-х годов XX в. ознаменовалось существенным расширением деятельности инославных конфессий на территории бывшего СССР. Католическое и греко-католическое духовенство, протестантские проповедники, члены различных сект стремились заполнить, как им казалось, «духовный вакуум», образовавшийся после распада СССР. Ослабленная гонениями, Православная Церковь еще не имела своей миссионерской стратегии и средств для работы миссии. В этой ситуации Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) предстояло сыграть особую роль — «первым встретить эту духовную агрессию» (РПЦ: офиц. сайт ОВЦС). Митрополит Кирилл и ОВЦС средствами церковной дипломатии все эти годы защищали церковную паству и шире — православное население на канонической территории РПЦ от небывалого ранее в истории РПЦ прозелитического нашествия.
В 90-х годах ХХ в. Митрополит Кирилл и ОВЦС выработали новую стратегию построения отношений с инославным миром, которая была одобрена на Архиерейском юбилейном Соборе 2000 года. Неукоснительно следуя церковному Преданию в признании спасительности именно Православия, Русская Церковь никогда не считала общины, отпавшие от Православия, полностью лишенными благодати Божией, но свидетельствовала о поврежденности их жизни в результате разрыва с православной Церковью. При этом «православная Церковь проводит четкое различие между инославными исповеданиями, признающими веру в Святую Троицу, Богочеловечество Иисуса Христа, и сектами, которые отвергают основополагающие христианские догматы» (Основные принципы отношения РПЦ к инославию // М., 2000. С. 11). Таким образом, задача православных христиан — восстановление единства Вселенской Церкви на основах неповрежденной истины, т. е. в Православии. «Православная Церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство христиан якобы нарушено не было и что Церковь должна пониматься совпадающей со всем „христианским миром“, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров и что разделенность Церквей принадлежит исключительно к несовершенному уровню человеческих отношений» (Там же. С. 5). Не признает РПЦ и насаждаемую некоторыми инославными богословами «теорию ветвей», утверждающую естественность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных «ветвей». С точки зрения православных, для инославия путь воссоединения есть путь исцеления и преображения догматического сознания. На этом пути должны быть вновь осмыслены темы, обсуждавшиеся в эпоху Вселенских Соборов. Важным в диалоге с инославием является изучение наследия святых отцов и выразителей веры Церкви.
Диалог РПЦ с инославными строился по нескольким направлениям. Первое: изучение проблем богословского характера, где РПЦ выступает как хранительница апостольского и святоотеческого Предания православной Церкви, учения Вселенских и Поместных Соборов. При этом «исключаются всякие догматические уступки и компромиссы в вере. Никакие документы и материалы богословских диалогов и переговоров не имеют обязательной силы для православных Церквей до окончательного утверждения их всей православной Полнотой». Это направление реализовывалось в совместных исследованиях, в работе конференций и семинаров, обмене студентами и научными кадрами. Второе: совместная работа в сфере служения обществу, там, «где это не приходит в противоречие с вероучением и духовной практикой… в том объеме и формах, какие Церковь считает в данный момент наиболее подходящими». Третье: безусловный отказ от прозелитизма со стороны традиционных конфессий и недопущение деструктивной миссионерской деятельности сект. В 2000-х годах основное внимание было сосредоточено на совместном свидетельствовании о христианской основе европеской цивилизации, миротворчестве, защите прав христиан и их нравственных принципов и т. д. Этими принципами определялась многовекторная богословская и церковно-дипломатическая деятельность ОВЦС и его председателя в диалогах с инославным миром как в форме двусторонних отношений, так и в работе межхристианских организаций.
I. Диалог с Римско-католической Церковью, начавшийся в 60-х годах XX в., постепенно укреплялся до начала 90-х годов, когда легализация и возрождение греко-католической Церкви на Украине стали причиной многочисленных актов насилия против православных верующих.
Когда греко-католики начали громить православные епархии на Западной Украине, по инициативе Митрополита Кирилла была создана четырёхсторонняя комиссия, в которую вошли представители УПЦ, греко-католической Церкви, Москвы и Ватикана. Задачей комиссии было рассмотрение спорных случаев, когда на один и тот же храм претендовали и православные, и греко-католики. Работа комиссии начиналась успешно, в семи случаях удалось разрешить споры миром. Ватикан официально признавал, что «проблемы межцерковных отношений в этом регионе возникают не на религиозной почве», а под влиянием политических сил (ЖМП. 1990. № 4. С. 59) и что «уния не может более рассматриваться как модель для единства Церквей» (ЖМП. 1990. № 7. С. 62). Однако вскоре униаты отказались от участия в комиссии, а Ватикан стал усиливать свое присутствие на канонической территории РПЦ: 13 апреля 1991 г. была восстановлена иерархия католической Церкви в России и Белоруссии и поставлен епископ в Казахстане, начали действовать католические монашеские ордена. Католический прозелитизм был направлен на обращение в католичество тех людей, которые по своим духовным корням принадлежали к православной Церкви. Поскольку 2-й Ватиканский Собор назвал католические и православные Церкви «Церквами-Сестрами», Митрополит Кирилл неоднократно заявлял, что, если католики верны этому принципу, они должны относиться к православной Церкви как к сестре, а не пытаться оторвать от нее верующих.
Богословскому осмыслению унии были посвящены заседания Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу. РПЦ и представлявшему ее интересы Митрополиту Кириллу удалось сплотить все Православные Поместные Церкви и выработать единую позицию по отношению к униатской агрессии. По докладу Митрополита Кирилла в декабре 1990 года в Стамбуле Межправославная комиссия по богословскому диалогу между Православной и Римско-католической Церквами приняла заявление, что «единственной темой… диалога сегодня должна стать тема униатства», что решение этого вопроса — условие продолжения богословского диалога. Было предложено «ежегодно давать оценку в рамках Межправославной комиссии по диалогу с Римско-католической Церковью отношениям между православными и римо-католиками, включая положение в регионах, вовлеченных в конфликт» (ЖМП. 1991. № 4. С. 52–53). Эта тема стала главной и в переговорах Митрополита Кирилла с папой Римским Иоанном Павлом II в марте 1991 года.
23 июня 1993 года на заседании в Баламанде (Ливан) было подписано соглашение, в котором католическая сторона признала ошибочность унии как метода достижения церковного единства, но эти договоренности далеко не всегда реализовывались на практике Римско-католической Церкви. Эта ситуация обсуждалась на встрече 12–13 января 1996 года Митрополитом Кириллом в Риме с председателем папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Э. И. Кассиди. В совместном заявлении было подтверждено, что в документах Римско-католической Церкви, а также в документах, принятых обеими Церквами, «говорится об исключении любых прозелитических действий», но было отмечено, что «практика не всегда отражает эти установки, порождая, таким образом, напряженность в отношениях между обеими Церквами» (ЖМП. 1996. № 2. С. 52). В мае 1997 года на встрече в Бари ситуация на Западной Украине была признана сложной и требующей незамедлительных действий по ее преодолению (ЖМП. 1997. № 8. С. 9).
Движение к нормализации отношений было трудным: в 1997 года на заседании в Константинопольском Патриархате представители всех православных Церквей постановили продлить мораторий на темы для обсуждения с Римско-католической Церковью, ограничив консультации вопросами преодоления унии и прозелитизма. Эти же проблемы были названы Священным Синодом РПЦ главными препятствиями для возможной встречи папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси. Обсуждение продолжилось в 1998—1999 годы. Надежды на разрешение этих вопросов на 8-й пленарной сессии Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между православной и Римско-католической Церквами (2000, Балтимор, США) также не оправдались: римо-католики не только не были готовы продолжать диалог, но фактически отказались даже от достигнутых договоренностей (в частности, было заявлено, что католическая сторона считает униатство нормальным явлением, поскольку униаты находятся в общении с Римом). После недели безрезультатных прений диалог был остановлен без планов его продолжения в будущем.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и папа Римский Бенедикт XVI.
Ватикан. 7 декабря 2007 г.
В начале 2000-х годов напряжение в отношениях РПЦ с Ватиканом усилилось в связи с несогласованным с УПЦ визитом папы Иоанна Павла II на Украину в 2001 году и созданием в 2002 году на канонической территории РПЦ новых католических епархий и структур. 11 февраля 2002 года было объявлено о решении папы Римского «повысить статус административных структур» Римско-католической Церкви на территории России до уровня епархий, а территорию Россию трактовать как «церковную провинцию» во главе с митрополитом. Летом этого же года епархии Римско-католической Церкви были созданы на юге и востоке Украины. В заявлении Патриарха Алексия и Священного Синода были названы причины такого решения Ватикана: действия Римско-католической Церкви, «не обусловленные реальными пастырскими нуждами, раскрывают миссионерские цели производящихся изменений. Это подтверждается многочисленными фактами миссионерской деятельности католического духовенства среди российского населения. Именно эту деятельность мы называем прозелитической и постоянно указываем на нее как на одно из основных препятствий в деле улучшения отношений между нашими Церквами».
Ситуация стала меняться после избрания главой Римско-католической Церкви папы Бенедикта XVI (см. Й.Ратцингер), с которым Митрополит Кирилл провел встречу в первый же день нового понтификата. По словам Митрополита Кирилла, «в Московском Патриархате со вниманием и надеждой были восприняты заявления Папы Римского Бенедикта XVI, сделанные им буквально сразу после восшествия на престол, о важности диалога с Православием и о необходимости улучшить отношения с Русской Православной Церковью… Мы, безусловно, поддерживаем не раз высказанное Бенедиктом XVI стремление к улучшению отношений между двумя Церквами и сами стремимся к тому же. Однако столь же безусловной является необходимость скорейшего перехода от слов к делу, от обнадеживающих деклараций к практическим шагам по разрешению конкретных конфликтных ситуаций» (Русская мысль. 2006. № 17). Во время встречи Митрополита Кирилла с папой Бенедиктом XVI в декабре 2007 года отмечалась «необходимость использовать инструменты диалога для согласования позиций по тем проблемам, которые стоят на повестке дня» (ЖМП. 2008. № 2. С. 28).
В условиях кризиса в диалоге с Римско-католической Церковью Митрополит Кирилл сосредоточил усилия на совместных действиях в области защиты и укрепления общехристианских ценностей (Международная конференция «Дать душу Европе: Миссия и ответственность Церквей» (Вена, 3–7 мая 2006), православно-католические консультации на тему «Антропологические и этические основания церковного учения об общественном устройстве, праве человека и достоинстве личности» и конференция «Христианство, культура, нравственные ценности» (Москва, 19—21 июня 2007) и др.). Сотрудничество в консолидации позиции 2 Церквей перед лицом наиболее важных проблем, волнующих сегодня человечество, высоко оценил и папа Бенедикт XVI, и Архиерейский Собор РПЦ 2008 года, констатировавший «совпадение позиций с Римско-католической Церковью по таким вопросам, как роль в обществе традиционных христианских ценностей, защита семьи, утверждение нравственности в личной и общественной жизни». Собор счел необходимым «преодоление трудностей, существующих в отношениях с католической Церковью». Среди проблем, возникших в отношениях с католиками, Собор назвал ущемление прав верующих православной Церкви на западе Украины, многочисленные попытки искусственного расширения униатского присутствия во многих регионах, необоснованную претензию Украинской греко-католической Церкви на общенациональный статус на Украине, прозелитическую активность отдельных католических клириков среди лиц, принадлежащих к Православию по Крещению, национальной и семейной традиции.
II. Отношения между РПЦ и различными протестантскими деноминациями, а также с англиканским сообществом развивались в этот период по нескольким направлениям. С одной стороны, Русская Церковь продолжала участвовать в тех богословских диалогах на межправославном уровне, которые начались в 70-80-х годах XX в: с англиканской Церковью, со Всемирной лютеранской федерацией (с 1981 года) и со Всемирным альянсом реформатских церквей (с 1986 года). Продолжались двусторонние диалоги РПЦ с Церковью Англии (В январе 1991 года Архиепископ Кирилл провел переговоры с делегацией Церкви Англии в Москве, в октябре 1991 года сопровождал Патриарха Алексия II во время визита в Великобританию), Евангелической Церковью Германии (Архиепископ Кирилл вел переговоры с делегацией Евангелической Церкви Вестфалии в августе 1990 года, участвовал в мероприятиях 24-го Немецкого евангелического кирхентага в Рурской области в июне 1991 года) и Евангелическо-лютеранской Церковью Финляндии (визит Митрополита Кирилла в Финляндию по приглашению Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии и его встреча с главой Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии Архиепископом города Турку Юккой Паармой состоялась в апреле-мае 1999 года).
В 90-х годах XX в. православные Церкви стали испытывать серьезные затруднения в диалоге с англиканами, протестантами и реформатами в связи с введением в этих общинах «женского священства» и общего усиления либеральных тенденций. Все труднее стало находить точки соприкосновения на богословской почве. Эта ситуация заставила РПЦ пересмотреть свое отношение к православно-протестантскому диалогу и инициировать постепенный переход от богословских тем к социальной и политической тематике. В диалоге с протестантскими деноминациями Русская Церковь считала своим долгом свидетельствовать о духовно-нравственных ценностях, основанных на Предании древней неразделенной Церкви. Именно поэтому в тех случаях, когда в протестантских общинах наблюдался радикальный отход от основополагающих нравственных норм христианства, Русская Церковь ограничивала или полностью прекращала контакты с этими общинами (например, с Епископальной Церковью в США в ноябре 2003 года в связи с «епископской ординацией» открытого гомосексуалиста и др.). Архиерейский Собор 2008 года отметил, что «будущее отношений со многими протестантскими общинами зависит от их верности нормам евангельской и апостольской нравственности, на протяжении многих веков хранимым христианами» (Определение Освященного Архиерейского Собора РПЦ 24—29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ» // РПЦ: офиц. сайт МП).
В области миротворческой и практической социальной деятельности сохранялась возможность сотрудничества. Хотя иногда и в этих случаях за благородными на первый взгляд целями, например, помощь нуждающимся, скрывались попытки прозелитизма (как в случае с предложенной в 1992 году лютеранами совместной акции «Миссия Волга-92»: созданная Митрополитом Кириллом в ОВЦС специальная группа после изучения предложения выяснила, что гуманитарная составляющая проекта является прикрытием «миссии» по обращению традиционно православных россиян в лютеранство). Особым направлением в диалоге с протестантскими общинами Европы стала защита христианских ценностей в условиях формирования новой нормативно-правовой системы ЕС. Роль христианских Церквей в истории и их духовное наследие, христианские основы европейской цивилизации, права христиан стали главными темами совместных конференций и консультаций с Евангелической Церковью Германии (2005–2007 годы), Евангелическо-лютеранской Церковью Финляндии (2005 год), с баптистами (2006 год). Раскрывая эти темы на встречах в рамках КЕЦ (2005 год и 2007 год), Европейской межхристианской ассамблеи (2007 год), Митрополит Кирилл выступал с критикой религиозного и нравственного релятивизма, навязываемого «эпохой постмодерна»: «Если человечество перестанет различать добро и зло, то очень скоро оно само себя разрушит… Я вижу одну из задач, которые сегодня стоят перед Церковью, перед научной общественностью в том, чтобы путем совместных размышлений помочь понять современному обществу: потерять способность отличать добро от зла означает приоткрыть врата апокалипсиса» (Творчество и свобода // ЦиВр. 2007. № 3(4). С. 11).
III. Все более сложными в 90-х годах XX в. становились отношения православных Церквей с ВСЦ. Поворотным пунктом следует считать 7-ю ассамблею ВСЦ, проходившую в феврале 1991 года в Канберре (Митрополит Кирилл возглавлял делегацию РПЦ), на которой православные участники выступили с заявлением о все более явном отходе этой организации «от библейски обоснованного христианского понимания: а) Триединого Бога, б) спасения, в) благой вести Евангелия, г) человека как сотворенного по образу и подобию Божию, д) Церкви, а также иных вероучительных вопросов» (ЖМП. 1991. № 6. С. 62). Тогда впервые встал вопрос о возможном пересмотре православным сообществом своих отношений с ВСЦ.
В сентябре 1991 года в Шамбези состоялась межправославная консультация по вопросу «Православные Церкви и ВСЦ», позицию РПЦ представлял Митрополит Кирилл.
К сожалению, выработанная общая позиция православных Церквей была практически проигнорирована руководством ВСЦ. В 1998 году Митрополит Кирилл отмечал: «С тех пор прошло семь лет, однако ничего из того, что предлагали православные в Канберре, не сделано… Совершенно очевидно, что без радикального изменения не одного только Всемирного Совета Церквей, но и всей системы межхристианских отношений, мы будем оставаться в том же порочном круге, в котором пребываем доныне» (Кредит нашего доверия к ВСЦ исчерпан. 1998. С. 26). 13–15 декабря 1996 года в Антелиасе (Ливан) по инициативе Митрополита Кирилла состоялась консультация по вопросу о православном участии в ВСЦ. РПЦ на консультации представляли Митрополит Кирилл и иеромонах Иларион (Алфеев). Делегаты от Русской Церкви обратили внимание на растущее внутри некоторых православных Церквей недовольство участием православных в экуменическом движении, выражающееся в призывах к выходу из ВСЦ. В ходе дискуссии некоторые представители православного сообщества высказались против односторонних решений отдельных Поместных Православных Церквей о выходе из совета, поскольку это было бы нарушением межправославной солидарности, породило бы недоумения и разделения внутри мирового Православия. Было также отмечено, что участие православных в ВСЦ должно рассматриваться как миссия и свидетельство об Истине внутри инославного мира. После 3-дневных дискуссий участники консультации сошлись во мнении относительно необходимости дальнейшего участия православных в работе ВСЦ, несмотря на все трудности, сопряженные с этим участием.
В вопросе об участии в ВСЦ на руководство православных Церквей пытались оказать давление консервативно настроенные слои паствы, обвинения в предательстве Православия и в богословском синкретизме перемежались с утверждениями, что ВСЦ является некоей «сверх-Церковью», членство в которой означает отказ от признания спасительности Православия. В Грузии радикально настроенные верующие и представители националистических партий изолировали Патриарха Илию II в его резиденции. Налицо был раскол Церкви, и Патриарх Илия, «дабы избежать противостояния в Церкви, которое переросло бы в противостояние в обществе и привело бы к дестабилизации в государстве и, возможно, кровопролитию», 20 мая 1997 года принял решение о выходе Грузинской Церкви из ВСЦ. В России главным объектом нападок стал Митрополит Кирилл, от него требовали прекратить контакты с ВСЦ. Однако Митрополит Кирилл и священноначалие РПЦ избрали более трудный путь — попытаться изменить систему отношений внутри ВСЦ и удержать возможность свидетельствования о Православии перед лицом инославных христиан. Важно также было сохранить ВСЦ как площадку объединения позиций христиан по актуальным проблемам современности.
29 мая — 2 июня 1998 года в Салониках по инициативе Митрополита Кирилла состоялась Всеправославная конференция. На ней было принято коммюнике (текст готовился при участии Митрополита Кирилла и в значительной степени отражал его понимание ситуации), где содержалось требование радикальной перестройки ВСЦ для усиления в нем авторитета православных участников. С этой целью было предложено создать Смешанную богословскую комиссию из представителей православных Церквей и лиц, назначенных ВСЦ. Решение о создании Специальной комиссии по православному участию в ВСЦ было принято на 8-й генеральной ассамблее ВСЦ, состоявшейся в Хараре 3–14 декабря 1998 года. В рамках этой комиссии впервые в истории ВСЦ православные участники оказались в равном положении с неправославными, стали полноценными партнерами в диалоге. По окончании работы комиссии были приняты конкретные предложения по переустройству ВСЦ, представленные ЦК ВСЦ в августе 2002 года. Прежде всего было предложено отказаться от голосования и перейти к работе по принципу консенсуса. Для православных членов Совета это давало новые возможности, потому что модель консенсуса защищала их от «забаллотирования» протестантским большинством при голосовании по важным вопросам. Было решено учредить постоянный комитет по православному участию в ВСЦ. Появилась возможность разделить участников ВСЦ на Церкви-члены, принадлежащие к сообществу ВСЦ, и Церкви, ассоциированные с ВСЦ. 2 сентября 2002 года в штаб-квартире ВСЦ в Женеве состоялось заседание ЦК ВСЦ, на котором были приняты и одобрены результаты работы комиссии по православному участию в ВСЦ.
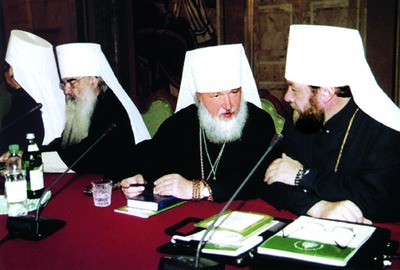
На Архиерейском Соборе РПЦ. Москва. 3-8 октября 2004 г.
Выступая с докладом на Архиерейском Соборе 2004 года, Митрополит Кирилл рассказал о достигнутых результатах: «Специальная комиссия по вопросу об участии Православных Церквей в работе ВСЦ добилась существенного изменения нашего положения в этой организации. Работа комиссии была трудной… однако, несмотря на серьезное сопротивление, мы добились того, что позиция Православных Церквей была не просто услышана, но отныне будет иметь решающее значение в процессе принятия различных документов», т. к. «принятие основных решений теперь будет происходить не по принципу простого большинства. Специальная комиссия установила раздельный порядок совершения „конфессиональных“ и „межконфессиональных“ молитв. Для нас это явилось значительным событием, ибо теперь появилась возможность лучше знакомить западных христиан с православным богослужением и литургическим благочестием» (Доклад… о внешней церковной деятельности // Освященный Архиерейский Собор). Достигнутые договоренности были подтверждены на встрече в Москве Митрополита Кирилла с генеральным секретарем ВСЦ пастором Самьюэлом Кобиа в июне 2005 года. Результаты работы специальной комиссии позволили русской Церкви восстановить полномасштабное участие в работе ВСЦ: на 9-й ассамблее ВСЦ в Порту-Алегри (Бразилия) в феврале 2006 года. Русская Церковь была представлена полноценной делегацией во главе с архиереем. Митрополит Кирилл посетил ассамблею в качестве почетного гостя. Как бы подводя итог этой многолетней дискуссии, Митрополит Кирилл на праздновании 60-летия ОВЦС так сформулировал свое отношение к диалогу с инославием: «Диалог и сотрудничество нужны не для того, чтобы достигнуть вероучительного компромисса, а для того, чтобы выработать модель совместного проживания в одном мире» (Речь на торжественном акте, посвященном 60-летию ОВЦС МП // ЦиВр. 2006. № 3(36). С. 23).
IV. Богословской основой для построения отношений с Древними Восточными Церквами стало выработанное в 1990 году в Шамбези Смешанной комиссией по богословскому диалогу между православной и Восточными православными Церквами (с участием РПЦ) «Второе общее заявление и предложение Церквам», в котором выражен «дух братства, взаимопонимания и общего стремления быть верными апостольскому и святоотеческому Преданию». Архиерейский Собор 1997 года постановил, что этот документ «не должен рассматриваться как окончательный документ, достаточный для восстановления полного общения между православной Церковью и Древними Восточными Церквами, так как содержит неясности в отдельных христологических формулировках». Отметив, что «Русская Православная Церковь имеет особенные исторические и церковные причины и основания содействовать успеху диалога с Древними Восточными Церквами», так как «на протяжении всей своей истории была покровительницей и защитницей православного Востока».
Исходя из этого решения Архиерейского Собора Священный Синод на заседании 30 марта 1999 года принял решение продолжить двусторонний диалог с дохалкидонскими Церквами. На заседании Священного Синода в декабре 2000 года после доклада Митрополита Кирилла о диалоге РПЦ с Коптской, Сирийской Православной и Армянской Апостольской (Киликийский Католикосат) Церквами в соответствии с решением Архиерейского юбилейного Собора 2000 года были учреждены координационный комитет и богословская комиссия, которые в дальнейшем вели консультации с Древними Восточными Церквами (в марте 2001 года в Москве, в декабре того же года в Каире). В 2001 году Патриарх Алексий в сопровождении Митрополита Кирилла посетил Армению, где участвовал в праздновании 1700-летия принятия Арменией христианства. Митрополит Кирилл охарактеризовал отношения между Русской и Армянской Церквами как «особенно добрые», отметив, что Армянская Церковь является «той силой, которая всемерно содействует развитию сотрудничества и взаимодействия между Россией и Арменией» (Интернет-портал информационного агентства «Русская линия»). В докладе Патриарха Алексия II на Архиерейском Соборе 2008 года сообщалось, что «богословская тематика обсуждается в основном в рамках общеправославного диалога с дохалкидонскими Церквами, в то время как на двусторонних собеседованиях рассматриваются церковно-исторические темы, а также вопросы, которые ставит перед христианством современность. Можно с удовлетворением признать, что по большинству этих вопросов точки зрения наших Церквей совпадают».
Взаимоотношения с дохалкидонскими Церквами в этот период во многом определялись теми сложными политическими условиями, в которых оказались паства и духовенство Древних Восточных Церквей и в ближневосточном регионе, и на территории бывшего СССР. Во время визита в страны Ближнего Востока в 1991 и 1992 годах предстоятель РПЦ и Митрополит Кирилл вели переговоры с главами Древних Восточных Церквей и государственными лидерами стран региона о положении христиан на Ближнем Востоке и о необходимых действиях по стабилизации межрелигиозной обстановки. Особую роль сыграла РПЦ в армяно-азербайджанском конфликте, став посредником между лидерами мусульман Азербайджана и руководством Армянской Церкви. В дни, когда армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха достиг апогея, Патриарх Алексий II и Митрополит Кирилл неоднократно встречались с председателем Высшего религиозного совета народов Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде. На встрече, состоявшейся 6 мая 1993 года, было сделано совместное заявление, в котором говорилось: «Каждый из нас воспринимает как личную рану трагедию армяно-азербайджанского конфликта… Мы решительно осуждаем любые действия и поступки, противоречащие заветам Всевышнего. Страшным кощунством, которое должно быть незамедлительно пресечено, является разжигание межнациональных конфликтов, поощрение национального эгоизма и агрессии… Мы решительно отвергаем попытки представить армяно-азербайджанский конфликт как христианско-мусульманское противостояние» (ЦиВр. 1998. № 4(7). С. 88–90). 18 ноября 1993 года состоялась встреча трех религозных лидеров: Патриарха Алексия, верховного католикоса-патриарха всех армян Вазгена I и шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, на которой констатировалась необходимость возврата на путь мирных переговоров и соглашений. 15 апреля 1994 года три религиозных лидера вновь собрались в Москве на миротворческой встрече, организованной ОВЦС. 13 июня 1995 года в Даниловом монастыре открылась трехсторонняя встреча Патриарха Алексия II, католикоса армян Гарегина II и духовного главы мусульман Азербайджана Аллахшукюра Паша-заде. При участии Митрополита Кирилла был выработан текст совместного «Московского заявления», в котором стороны призвали государственных лидеров конфликтующих сторон к мирному разрешению споров (ЖМП. 1995. № 6/8. С. 17). Все эти годы Митрополит Кирилл принимал меры для смягчения позиций сторон-участниц конфликта и главное для недопущения перерастания национального и геополитического противоборства в межрелигиозное противостояние. 24 ноября 2000 года в Москве состоялась четвертая трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана, в которой приняли участие Патриарх Алексий II, католикос всех армян Гарегин II и шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде. Участники встречи пришли к единому мнению, что, несмотря на остроту межнационального противостояния, усилиями религиозных лидеров удалось предотвратить перерастание территориального спора в межрелигиозный конфликт.
В марте 2002 года Митрополит Кирилл посетил Ирак, где встретился с иерархами Древних Восточных Церквей на территории Ирака. На переговорах с министром по делам религий и вакуфов, министром высшего образования и научных исследований и министром здравоохранения Ирака Митрополит Кирилл обсудил вопросы, жизненно важные для христиан этой страны.