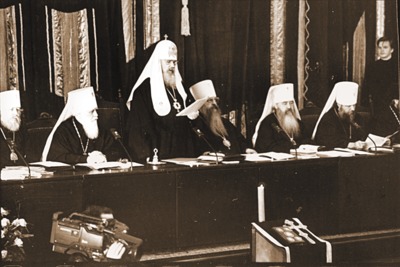Усилия по сохранению единства Церкви
На рубеже 80-х и 90-х гг. XX в. нарастали центробежные процессы в СССР, страну захлестнули межэтнические конфликты (в Карабахе и Сумгаите в 1988, в Кишинёве и Сухуми в 1989, в Баку и Цхинвали в 1990), к-рые вскоре спровоцировали и распад СССР (с осени 1989 в течение года все республики СССР приняли документы о гос. суверенитете). В ст. «Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки» К. предупреждал о несовместимости представлений о национальном превосходстве с христ. мировоззрением: «Сам факт принадлежности к Церкви бросает вызов национализму, ибо национализм есть национальная гордыня и национальный эгоизм». Задача Церкви в условиях нарастающих национальных конфликтов — «нести слово примирения» и своими действиями не допускать кровопролития (Церковь в отношении к обществу. 1990. С. 35–36).
Необходимо было сохранить каноническое единство Русской Церкви на ее исторической территории. 22 окт. 1991 г. по предложению К. было принято обращение патриарха и Свящ. Синода: «Мы сознаем, что существующие структуры церковного управления, сложившиеся исторически, могут претерпевать изменения. Однако мы решительно выступаем против того, чтобы эти изменения осуществлялись вопреки воле народа Божия, составляющего Церковь, с пренебрежением к священным канонам и в силу чуждых политических расчетов». В этом заявлении содержался и четкий ответ тем националистическим силам, которые выступали против единства Русской Православной Церкви, обвиняя ее в «имперских» амбициях. Откликаясь на создание Содружества Независимых Государств (СНГ) (8 и 21 дек. 1991) Свящ. Синод принял заявление, в котором говорится: «…отстаивая собственную свободу, нельзя ограничивать свободу ближнего», нельзя воздвигать искусственные барьеры непонимания и отчуждения между народами, соединенными историческими, религиозными, культурными связями. Сохранение и укрепление единства РПЦ требовало неотложных мер. В решении этой задачи К. как председатель ОВЦС принимал непосредственное участие: «Сепаратистские тенденции, которые возникли с распадом Советского Союза, отразились на жизни Церкви самым непосредственным образом. Не все расколы удалось предотвратить, некоторые процессы выходят не только за рамки возможностей Отдела внешних церковных сношений, но даже и за пределы возможностей всей Церкви… И все же мне кажется, если бы не участие Отдела внешних церковных сношений в решении ряда вопросов, все там происходило бы гораздо более драматично» (РПЦ: Офиц. сайт ОВЦС).
I. С особой остротой сепаратистские тенденции проявились на Украине, где в февр. 1989 г. при поддержке националистических движений и орг-ций («Народного руха Украины», об-ва «Мемориал» и др.) был образован Комитет по возрождению т. н. Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), призвавший правосл. приходы Украины к отделению от Московского Патриархата. Этому призыву последовали некоторые приходы, прежде всего на западе Украины, в раскол перешел и находившийся на покое бывш. Житомирский еп. Иоанн (Боднарчук) (см. ст. Боднарчук), вскоре возглавивший автокефалистское движение.
Одновременно началась мощная атака на правосл. приходы Русской Церкви на Украине со стороны греко-католич. структур, легализованных после встречи Горбачёва с папой Римским Иоанном Павлом II 1 дек. 1989 г. В результате действий греко-католиков были практически разгромлены 3 правосл. епархии: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская. В сер. янв. 1990 г. ОВЦС провел переговоры с представителями Римско-католической Церкви о нормализации отношений между православными и католиками вост. обряда на Зап. Украине. Был совместно выработан ряд рекомендаций, к-рые, однако, не соблюдались униатами на местах, а уже в марте представители греко-католиков отказались от участия в согласительной комиссии. В этих условиях важным достижением церковной дипломатии была консолидация позиции правосл. Церквей в отношении греко-католич. агрессии на Украине: в сент. 1990 г. полную поддержку позиции Русской Церкви выразили К-польский патриарх Димитрий I, Александрийский патриарх Парфений III, Иерусалимский патриарх Диодор I, Грузинский патриарх Илия II, главы Польской, Чехословацкой Православных Церквей, Православной Церкви в Америке. Важным было и заявление Конференции европейских Церквей, выразивших сожаление в связи с трагическими событиями по захвату правосл. храмов на Зап. Украине.
Католич. и греко-католич. экспансия еще долгие годы оставалась причиной межконфессионального напряжения на Украине. В 2002 г. без предварительного информирования РПЦ на Украине были учреждены новые католич. епархии (Одесско-Симферопольская и Харьковско-Запорожская), тогда же появился греко-католич. «Донецко-Харьковский экзархат», а руководство Украинской греко-католич. Церкви заявило о планах переезда из Львова в Киев и учреждения там «патриаршей кафедры». В заявлении патриарха Алексия II и Свящ. Синода от 17 июля 2002 г. говорилось: «Жители Юга и Востока Украины всегда твердо стояли за православную веру. Попытки латинизировать их или насадить унию неизменно терпели крах… данный регион никогда не имел греко-католическую иерархию». Действия Римской курии ясно свидетельствовали «о стратегическом намерении Ватикана продолжать экспансию на Восток любой ценой и любыми средствами», игнорируя «позиции нашей Церкви по вопросам прозелитизма и разделения сфер пастырской ответственности». В заявлении ОВЦС от 30 июля 2002 г. Ватикан предупреждался о «серьезном уроне отношениям между двумя Церквами», который наносят его действия на Украине (ЦиВр. 2002. № 3(20). С. 11–20).
Главной претензией, выдвигаемой униатами и раскольниками-автокефалистами против Украинского Экзархата РПЦ, была зависимость последнего от высшего управления РПЦ. 9 июля 1990 г. Синод Украинского Экзархата направил в адрес Свящ. Синода РПЦ обращение укр. архиереев о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости и самоуправляемости. В кон. июля патриарх Алексий II в. сопровождении К. посетил Украину, где встретился с укр. епископатом, часть к-рого пыталась убедить его в необходимости срочного предоставления самостоятельности правосл. церковной организации на Украине. Очевидно, что и Поместный Собор 1990 г., и Свящ. Синод главную опасность для церковного единства видели в то время в греко-католич. агрессии, имевшей ярко выраженный националистический и политический характер, и в распространении опиравшегося на крайне националистические политические движения автокефалистского раскола. Летом 1990 г. по заказу ОВЦС Ин-т социологических исследований АН СССР провел исследование состояния межконфессиональных отношений в зап. областях Республики Украина, к-рое еще раз подтвердило: именно национально-политический, а не религ. фактор стал определяющим для поведения раскольнических группировок на Украине. 25–27 окт. 1990 г. был созван внеочередной Архиерейский Собор РПЦ, главной задачей к-рого стала выработка мер, призванных воспрепятствовать дальнейшему распространению раскольнических движений на канонической территории РПЦ. Архиерейский Собор согласился с просьбой укр. епископата и предоставил Украинской Православной Церкви независимость и самостоятельность в управлении. Патриарх Алексий II направил в адрес укр. правительства офиц. письмо, в котором объявил об отказе Русской Церкви от прав на собственность и имущество, до сих пор ей принадлежавшие на территории Украины, равно как и на собственность, экспроприированную ранее у нее коммунистическим режимом. Правопреемницей Русской Церкви на Украине объявлялась Украинская Православная Церковь (УПЦ).
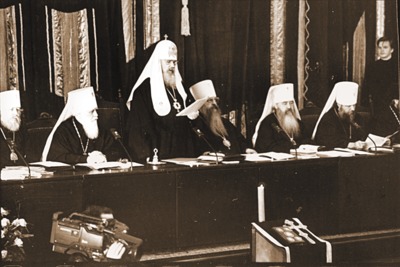
Архиерейский Собор РПЦ. Москва. 31 марта — 5 апр. 1992 г.
Это решение не предотвратило раскол, т. к. не учитывало личных амбиций Киевского митр. Филарета (Денисенко) и председателя Верховной рады Украины Л. М. Кравчука. В нояб. 1991 г. митр. Филарет созвал собор Украинской Православной Церкви, принявший определение с требованием полной автокефалии. 31 марта 1992 г. в Москве начал работу экстренный Архиерейский Собор, на к-ром укр. церковная ситуация подверглась детальному обсуждению. К. выступил с сообщением, в котором информировал членов Собора о намерении ряда укр. архиереев обратиться к К-польскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. «У нашей Церкви есть расхождение с Константинополем в понимании того, как предоставляется автокефалия. Вместе с нами весь негреческий мир считает, что автокефалию дает Мать-Церковь. Константинополь и некоторые греческие Церкви считают, что только он может предоставить автокефалию. На этом противоречии возникает соблазн продвинуть дело автокефалии через Константинополь». К. сообщил, что К-польская Патриархия заверила, что предоставление автокефалии УПЦ будет возможно только при условии согласия на это Московского Патриархата (ЖМП. 1992. № 8. С. 7). Твердая позиция патриарха Алексия и епископата РПЦ, отвергших просьбу об автокефалии, и осознание того, что др. правосл. Церкви не поддержат раскол, отрезвили большую часть укр. архиереев: они заявили об отказе от своей подписи под требованием автокефалии, подписанном, как выяснилось, на Соборе под страхом прещений со стороны митр. Филарета и репрессий со стороны светских властей Украины. Хроника Собора сохранила описание наиболее острого момента в его развитии: 2 апр. в 1.45 ночи, когда дискуссия об автокефалии приняла особую остроту, митр. Филарет со словами: «На таком Соборе мне делать нечего»,- поднялся и направился к выходу. За ним встали 2 укр. епископа. В этот момент раздался решительный голос К., который предупредил, что действия укр. архиереев ведут Церковь к расколу. Все трое, включая митр. Филарета, вернулись на свои места. Патриарх Алексий поставил вопрос об отставке митр. Филарета, что было поддержано большинством Архиерейского Собора. Филарет дал слово архиерея, что не будет чинить никаких препятствий свободному волеизъявлению Украинской Церкви при избрании ее первоиерарха. Митр. Филарет целовал крест и Евангелие, чтобы подтвердить истинность своих обещаний (ЖМП. 1992. № 7. С. 4–11). Однако он выставил условием своего ухода проведение выборов нового митрополита Киевского в Киеве, а не в Москве. С этим не был согласен К., сказавший, что, общаясь с укр. епископатом, «понял, что большая его часть испытывает страх пред владыкой Филаретом» (Там же. № 8. С. 7). Поэтому, для того чтобы волеизъявление Украинской Церкви по вопросу о ее предстоятеле было свободным, этот вопрос должен решаться не в Киеве, а в Москве. Однако Собор поверил митр. Филарету, а патриарх Алексий от лица епископата даже выразил Филарету благодарность за жертву, приносимую ради Церкви.
Три дня спустя в проповеди на Благовещение во Владимирском кафедральном соборе Киева митр. Филарет отказался от своей клятвы Архиерейскому Собору и заявил, что останется на посту главы УПЦ. Понимая, что он не сможет вопреки воле Архиерейского Собора сохранить свой пост, 26 мая митр. Филарет собрал в Киеве своих сторонников на «Всеукраинскую конференцию по защите канонических прав Украинской православной церкви». Группа сторонников Филарета, стремясь вовлечь в церковный конфликт на Украине К-польского Патриарха Варфоломея I, обратилась к нему с посланием, в к-ром заявлялось об отвержении акта 1686 г. о передаче Киевской митрополии из юрисдикции К-польской Церкви в ведение Московского Патриархата. Епископы Украинской Церкви не поддержали Филарета, и на Харьковском Архиерейском Соборе 27–28 мая 1992 г. предстоятелем УПЦ Московского Патриархата был избран митр. Владимир (Сабодан), а митр. Филарет был запрещен в священнослужении.
30 мая Филарет направил Патриарху Варфоломею послание, в к-ром обвинил Московскую Патриархию в «антиканонической деятельности» и в том, что она «фактически учинила раскол в лоне Украинской православной церкви». Филарет просил Варфоломея I принять его вместе с ближайшими помощниками в свою юрисдикцию. Письмо осталось без ответа. На Архиерейском Соборе РПЦ в июне 1992 г. за продолжение раскольнической деятельности митр. Филарет был лишен сана.
При поддержке Президента Украины Кравчука Филарет сохранил за собой контроль над денежными средствами УПЦ. Кравчук объявил незаконными решения Харьковского Собора УПЦ. Президиум Верховной Рады Украины принял заявление, в к-ром Харьковский Собор был назван не только незаконным, но и неканоническим. 25—26 июня 1992 г. в киевской приемной Филарета прошло собрание неск. епископов УАПЦ, депутатов Верховной Рады Украины, обслуживающего персонала митрополии, именовавшееся Объединительным собором 2 церквей — Украинской православной и Украинской автокефальной. Решением «собора» эти орг-ции были упразднены, их имущество, финансы и средства были объявлены собственностью вновь созданной структуры, названной «Украинская православная церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП). Ее руководителем решено было считать жившего в США 94-летнего патриарха УАПЦ Мстислава Скрыпника, заместителем — Филарета Денисенко. Понимая, что его раскольническая группировка окажется вне общения с др. правосл. Церквами, Филарет отправился в Стамбул, где был принят главой К-польского Патриархата. Факт встречи К-польского Патриарха с лидером раскола вызвал удивление в Москве: ведь на недавней встрече глав Поместных Православных Церквей в Стамбуле 15 марта 1992 г. в совместном коммюнике было ясно выражено общее согласие на то, чтобы «святые Церкви при полной солидарности друг с другом осудили раскольнические группы и воздержались от общения с ними». Более того, в интервью после встречи Патриарх Варфоломей отдельно высказался о ситуации с раскольниками, имея в виду «тех, кто основал „Православную автокефальную церковь“ на Украине, преступив каноническое право»: «Мы были единодушны в их осуждении». Столь резкое изменение позиции было, очевидно, вызвано желанием Патриарха Варфоломея приобрести новое средство давления на Русскую Церковь в условиях сложной дискуссии между двумя Церквами по вопросам диаспоры, статуса Константинопольского Патриарха и порядка дарования автокефалии.
Важно было незамедлительно церковно-дипломатическими мерами пресечь возникающий межправосл. конфликт, который мог осложнить и без того непростое положение Православия на Украине. Патриарх Алексий направил Патриарху Варфоломею резкое письмо, в котором разъяснил, что целью визита Филарета является попытка легализовать учиненный им раскол. Сообщая главе К-польской Церкви, что «в дни пребывания в Стамбуле монаха Филарета (Денисенко) нек-рые средства массовой информации Украины широко распространяют сообщения о якобы успешном течении его миссии и о намечающемся будто бы благоприятном для него ее завершении», патриарх Алексий твердо настаивал на поддержке К-польским Патриархом «канонической правды и наших усилий по недопущению распространения на Украине нового церковного раскола» (ЖМП. 1992. № 9. Офиц. хроника. С. VIII–IX). В эти же дни в Москву прибыла делегация К-польского Патриархата, к-рой патриарх и сотрудники ОВЦС полностью прояснили позицию Русской Церкви. Вскоре поступило сообщение, что патриарх Варфоломей не поддержал просьбу раскольников принять их в общение и даровать им автокефалию, отказал им в выдаче св. мира и не допустил литургического общения с раскольниками. 26 авг. 1992 г. К-польский Патриарх известил патриарха Московского о том, что он признает митр. Киевского Владимира (Сабодана) единственным каноническим главой Украинской Церкви и что он поддерживает решение о лишении Филарета священного сана.
При поддержке Президента Украины Кравчука раскол на Украине стремительно разрастался (на 1 янв. 1995 филаретовский «Киевский патриархат» насчитывал уже 1753 прихода). 14 июля 1995 г. при загадочных обстоятельствах умер глава «Киевского патриархата» Владимир Романюк, и Филарет был избран «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В февр. 1997 г. Филарет был предан анафеме Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Главной целью раскольников оставалась легализация своей лже-Церкви в мировом правосл. сообществе, и пути достижения этой цели они искали прежде всего в К-польском Патриархате. В 1995 г. К-польский Патриархат принял в свою юрисдикцию т. н. Украинскую православную церковь в США, раскольническую группировку, созданную укр. эмигрантами в 1919 г. С 1971 г. эту непризнанную Поместными Православными Церквами группировку возглавлял «митрополит» Мстислав Скрыпник, в 1990 г. избранный в Киеве главой неканонической УАПЦ. После его смерти в 1993 г. новый глава группировки «митрополит» Константин Баган стал активно искать пути легализации своего раскольнического сообщества и 12 марта 1995 г. добился вхождения в качестве автономной Церкви в состав К-польского Патриархата. РПЦ не признала этот антиканонический акт. Т. о. был создан еще один очаг напряжения в укр. Православии.
На встрече патриарха Алексия II с Патриархом К-польским Варфоломеем в сент. 1997 г. удалось добиться поддержки со стороны К-польского Патриархата канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата во главе с митр. Киевским и всея Украины Владимиром. Однако уже в марте 2000 г. напряжение вновь стало нарастать: после кончины главы пребывающей в расколе «Украинской автокефальной православной церкви» лжепатриарха Димитрия Яремы со стороны этой группировки стали предприниматься попытки вхождения в структуру Украинской православной церкви в США в юрисдикции К-польского Патриархата. 28 марта 2000 г. К. провел переговоры с генеральным секретарем Свящ. Синода К-польского Патриархата митр. Филадельфийским Мелитоном и митр. Пергамским Иоанном (Зизиуласом), во время которых участники «договорились о необходимости координации совместных действий в целях достижения мира и канонического единства в церковной жизни на Украине». 25–28 авг. 2001 г. в Киеве прошло празднование 950-летия Киево-Печерской лавры, в котором приняли участие делегации всех Поместных Православных Церквей, что было особенно важно для поддержки канонического Православия на Украине.
Опасность односторонних действий со стороны К-польского Патриархата была устранена, хотя и в последующие годы К-поль на 2-сторонних переговорах проявлял заинтересованность в том, чтобы активно подключиться к решению украинской проблемы. Активизации этих планов способствовало избрание Президентом Украины В. А. Ющенко, к-рый занял позицию поддержки «Киевского патриархата» и активизировал контакты с К-польским Патриархом с целью признания этой раскольнической структуры. На Архиереейском Соборе 2008 г. митр. Владимир (Сабодан) так охарактеризовал сложившуюся на Украине ситуацию: «Сейчас мы сталкиваемся с новой угрозой фрагментации Православия в Украине по тем линиям, которые разделяют цивилизационно-культурные общности внутри нашей страны. Этому способствуют политические силы как внутри, так и за пределами Украины. В результате Церковь в Украине может быть разделена на несколько православных юрисдикций». Летом 2008 г. Патриарх Варфоломей встретился с лидерами раскольнических структур Украины — Филаретом Денисенко («Киевский патриархат») и Мефодием Кудряковым (УАПЦ). Спустя неск. дней открылся «архиерейский собор» самопровозглашенного «Киевского патриархата», по итогам которого было объявлено, что якобы канонический статус этой раскольнической структуры урегулирован и К-поль поможет решить ее проблемы.
Еще один амбициозный политический проект администрации президента Украины предусматривал создание новой независимой правосл. Церкви, в к-рую вошли бы все «ветви» укр. Православия: каноническая Церковь Московского Патриархата, филаретовский раскол («Киевский патриархат») и автокефалисты (УАПЦ). Патриарх Алексий, К. и ОВЦС предпринимали все возможные церковно-дипломатические меры для предотвращения такого развития событий: были проведены встречи и переговоры патриарха и К. с Президентом Украины Ющенко (в 2005 и 2008). 23 июля 2008 г. К. принял участие во внеочередном заседании Свящ. Синода Украинской Церкви. Синод принял «Обращение к Святейшему архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху Варфоломею I», в котором отметил, что возвращение к спасительному лону Христовой Церкви чад Божиих, отпавших от нее, требует пастырской мудрости и осторожности: «Особенно нежелательно вмешательство в этот процесс каких-либо внецерковных чиновников, в частности, государственной власти и различных политических и общественных сил. Многовековой опыт церковной жизни свидетельствует, что вмешательство политических сил в церковные дела всегда приводит к тяжким конфликтам, преодоление которых может продолжаться многие годы. …Мы убеждены, что Украинская Православная Церковь способна самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Помощь же иных Поместных Церквей не должна превращаться во вмешательство во внутренние дела нашей Церкви» (РПЦ: Офиц. сайт ОВЦС). Делясь своими впечатлениями от заседания укр. Синода, К. подчеркивал, что все архиереи «выступили с горячей поддержкой идеи сохранения единства нашей Церкви и заявили о том, что никакого изменения канонического статуса они не допустят. Это был голос Церкви, выраженный ее архиереями, но когда мы услышали голос народа Божия, который полностью совпал с позицией епископата, это стало свидетельством соборной позиции всей Украинской Православной Церкви, которая заявила о желании оставаться в единстве, образуя единое целое с Русской Православной Церковью» (Православие и мир: интернет-портал — www.pravmir.ru/printer_3185.html).
25 июля 2008 г. в Киев для участия в торжествах празднования 1020-летия крещения Руси прибыл Патриарх К-польский Варфоломей. Его принимали по протоколу, предусмотренному для гос. лидеров. В аэропорту его встречал Президент Украины В. А. Ющенко. На центральных улицах и площадях Киева были вывешены плакаты, на к-рых были изображены Патриарх Варфоломей и Ющенко. Когда же 26 июля на торжества прибыл патриарх Московский и всея Руси Алексий, его встречали без почестей. Во время самих торжеств Президент Украины всячески подчеркивал свое расположение к К-польскому Патриарху, пытаясь максимально принизить значение патриарха Московского. Однако народ Украины встречал именно Московского патриарха как своего церковного лидера. Вечером 26 июля на центральной улице Киева — Крещатике, состоялся гала-концерт, на к-рый собрались более 100 тыс. чел., преимущественно молодежь. Перед ними с пламенной речью о единстве слав. народов, получивших крещение в днепровской купели равноап. кн. Владимира, выступил К., который процитировал прп. Лаврентия Черниговского Черниговского: «Россия, Украина, Беларусь — это есть Святая Русь! А Святая Русь — это не империя, это не союз бывший или какой-то будущий. Святая Русь — это идеал любви, добра и правды. Святая Русь — это непобедимость. Святая Русь — это красота. Святая Русь — это сила. И мы все с вами — единая Святая Русь!» (Ревенко Е. Православных не удалось разделить // Вести: Интернет-газ.- www.vesti.ru/doc.html?id=197376 ). Вспоминая об этом концерте, К. впосл. говорил: «Нужно было видеть лица молодых людей, нужно чувствовать их реакцию, их колоссальную поддержку простой истины, к-рая была высказана одним преподобным и богоугодным человеком: „Россия, Украина, Беларусь — это и есть Святая Русь“. Сознание принадлежности к единой духовной, цивилизационной системе ценностей в крови у всех нас».

Празднование 1020-летия Крещения Руси в Киеве 27 июля 2008 г.
27 июля на Владимирской горке состоялось совместное богослужение, совершенное патриархами Варфоломеем и Алексием. К. на пресс-конференции, посвященной итогам визита патриарха Алексия на Украину, рассказал: «Их никто не собирал, не привозил в автобусах — и однако тысячи людей пришли по велению своего сердца. И когда Его Святейшество вышел из машины, он услышал сначала, как кто-то начал скандировать его имя: „Алексий!“, затем стало слышно, как нарастает глас народа, который свидетельствовал о своем выборе, выраженном в словах: „Алексий — наш патриарх!“. Под скандирование этой фразы Святейший патриарх прошел через главную площадь Киево-Печерской лавры. И везде, где бы он ни появлялся, он и все окружающие, а вместе с нами весь мир слышали внятное и совершенно ясное свидетельство. Это было, можно сказать, народное голосование за единую Церковь, во главе которой — Патриарх Московский и всея Руси» (Православие и мир: интернет-портал www.pravmir.ru/printer_3185.html). Т. о. торжества, задуманные президентом Украины с целью отделить Украинскую Церковь от Московского Патриархата, вылились в мощную демонстрацию единства между верующими Украины и России.
По итогам переговоров между патриархом Алексием и Патриархом Варфоломеем, в которых принял участие К., удалось не допустить односторонних действий со стороны К-польского Патриархата. По окончании переговоров К. сказал: «Сегодня с облегчением вздохнули не только верующие на Украине и в России, но и православные во всем мире, поскольку не произошло самого опасного — церковного разделения, но мы засвидетельствовали свое единство, к-рое превыше всего» (Там же).
II. Церковный кризис в Эстонии начался в 1992 г. как внутренний конфликт, инспирированный националистическими кругами во власти и отчасти небольшой группой эст. духовенства. Казалось, что предоставление Православной Церкви в Эстонии автономии в составе РПЦ сможет разрешить конфликтную ситуацию. Эст. раскольники, использовавшие тот же политический тезис, что и на Украине: «суверенному государству — независимую Церковь», ни по своему числу (в учредительном собрании раскольнической группы в апр. 1993 участвовали 5 клириков Эстонской Православной Церкви (ЭПЦ)), ни по своему минимальному влиянию на паству, казалось, не представляли реальной угрозы единству Православия в Эстонии. Полномасштабный эст. церковный кризис, затронувший все Православные Поместные Церкви, разразился тогда, когда раскольники приобрели себе сильных покровителей в лице гос. власти и К-польского Патриарха.
Православная Церковь в Эстонии прошла сложный исторический путь в XX в. В 1920 г. патриарх Тихон даровал ей автономию в составе РПЦ. В 1923 г., ссылаясь на тяжелое положение Православия в России, без ведома и согласия РПЦ К-польский патриарх Мелетий издал томос о включении Православной Церкви в Эстонии в состав К-польского Патриархата в качестве «отдельного церковного округа». В 1978 г. патриарх К-польский Димитрий I, исходя из исторической и канонической справедливости, отменил томос патриарха Мелетия, подтвердив реальное положение вещей: Православная Церковь в Эстонии является неотъемлемой частью РПЦ. В нач. 90-х гг. XX в. раскольники, возглавляемые клириком К-польского патриархата прот. Николаем Суурсеетом, действуя в согласии с правительством Эстонии, объявили томос 1978 г. недействительным. Обращения законного еп. Таллинского и всея Эстонии Корнилия (Якобса) к К-польскому Патриарху Варфоломею, к президенту и министрам Эстонии оставались без ответа. Власти Эстонии признали наследниками церковного имущества и всех прав исторической Церкви группу раскольников, каноническая Церковь оказалась лишенной своих законных прав и имущества. Осенью 1994 г. власти Эстонии начали серию обращений к К-польскому Патриарху Варфоломею с просьбой поддержать их курс на силовой отрыв Эстонского Православия от Московского Патриархата.
В этих условиях 5 окт. 1994 г. Свящ. Синод РПЦ поручил К. вступить в переговоры с К-польским Патриархатом. В ноябре К. во главе делегации РПЦ встретился с Патриархом Варфоломеем, но удалось добиться лишь решения о более внимательном изучении положения дел в Эстонии специальной делегацией К-польского Патриархата. К. срочно приехал в Эстонию, где провел ряд встреч со всеми участниками конфликта, в т. ч. с министром внутренних дел Эстонии Х. Арике, однако столкнулся с полным отсутствием воли властей к поиску мирного решения конфликта. После визита к-польской делегации в февр. 1995 г. в Эстонию (осуществленного без согласования с РПЦ) начались сложные переговоры в Москве. И патриарх Алексий, уроженец Эстонии, прослуживший в ней в общей сложности почти 50 лет, и К., ясно представлявший себе религ. и политическую обстановку в Эстонии, попытались донести до представителей К-польского Патриархата очевидное — поддержка К-полем неправомерных устремлений эст. властей лишь ухудшит ситуацию, нарушит принципы братского мира среди Православных Поместных Церквей, создаст крайне опасный прецедент межцерковного «рейдерства». Достичь взаимопонимания на переговорах не удалось. 29 мая 1995 г., во время визита в Финляндию, Патриарх Варфоломей обратился к православным Эстонии как к «своей пастве» и заявил о скором восстановлении действия томоса патриарха Мелетия 1923 г. 12 июля о своем намерении захватить эст. паству под видом «восстановления исторического церковного порядка» он уведомил и патриарха Алексия.
К кон. 1995 г. напряжение в «эстонском конфликте» достигло предела, в связи с чем 3 янв. 1996 г. К. вновь посетил Стамбул, желая предотвратить худший сценарий развития события — разрыв отношений между Русской и К-польской Церквами. Основываясь на решениях Поместного Собора Эстонской Апостольской Православной Церкви (ЭАПЦ) от 17 нояб. 1993 г., К. внес ряд компромиссных предложений, предусматривавших определенные шаги навстречу тем, кто желали бы перейти в юрисдикцию К-польского Патриархата. Предложенный план подразумевал, что ЭАПЦ, возглавляемая архиеп. Корнилием, регистрируется в полном составе как правопреемница исторической Эстонской Церкви; после регистрации все приходы получают возможность самоопределения в выборе юрисдикции; процесс перехода общин, изъявивших желание войти в К-польский Патриархат, должен осуществляться, согласно каноническим нормам, после 2-стороннего соглашения Московского и К-польского Патриархатов. Удалось достичь согласия лишь в том, что все правосл. приходы в Эстонии независимо от их канонического самоопределения должны быть зарегистрированы как правопреемники соответствующих довоенных приходов со всеми вытекающими имущественными последствиями. Предполагалось продолжить переговоры в феврале. Однако уже на следующий день вопреки достигнутым соглашениям К-польский Патриархат объявил о своих намерениях «возобновить деятельность автономной Эстонской Апостольской Православной Церкви на основе томоса патриарха Мелетия IV от 1923 г. Такая автономная Церковь может включать в себя все православные общины на территории Эстонии с отдельной епархией для русскоязычных приходов» (Православие в Эстонии: Исследования и документы. М., 2010. Т. 2. № 103. С. 286–287).
К. отозвался заявлением от 17 янв. 1996 г., в к-ром выразил энергичный протест Русской Церкви: «Сам факт направления такого послания православным общинам Эстонии является грубейшим нарушением православных канонов, запрещающих епископу одной поместной Церкви обращаться к пастве другой поместной Церкви». В заявлении была изложена позиция делегации РПЦ на встрече в Стамбуле 3 янв. 1996 г. и выражена озабоченность выходящими за рамки 2-сторонних обсуждений акциями К-польского Патриархата, которые несут серьезную угрозу межправосл. миру и каноническому единству (Там же. № 108. С. 293–294). РПЦ предлагала продолжить поиски мирного разрешения конфликта, К-польский Патриархат уклонялся от переговоров. Известив глав всех правосл. Церквей о сложившейся ситуации, РПЦ в лице своего Предстоятеля дважды обращалась к Патриарху Варфоломею, взывая к его архипастырской ответственности. Все оказалось напрасно, 20 февр. 1996 г. Патриарх Варфоломей подписал «Патриарший и синодальный акт о возобновлении действия Патриаршего и синодального томоса от 1923 г. об Эстонской православной митрополии». В этом документе законными преемниками Эстонской Апостольской Православной Церкви названы «принимающие данный томос и сохранившие непрерывное каноническое преемство данной Церкви». Важной частью своей архипастырской деятельности в Эстонии К-польский Патриарх посчитал разделение правосл. паствы на основе дискриминационного по отношению к русским эстонского гражданского законодательства. Русской Церкви о своем деянии К-польский Патриархат не сообщил.
23 февр. 1996 г. Свящ. Синод РПЦ постановил: «Ввиду того что неоднократные братские увещевания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и его обращение от имени Священного Синода и епископата Русской Православной Церкви к Патриарху К-польскому Варфоломею были им проигнорированы, с глубокой скорбью и сожалением должны признать данную акцию раскольнической, вынуждающей нашу Церковь приостановить каноническое и евхаристическое общение с К-польским Патриархатом и Финляндской автономной архиепископией, а также прекратить поминовение К-польского Патриарха по диптиху Предстоятелей поместных православных Церквей» (Там же. № 127. С. 328). Перед К. и ОВЦС встала задача незамедлительно разъяснить главам др. Поместных Православных Церквей истинные причины межправосл. кризиса. 8–9 марта 1996 г. К. находился в Сирии для переговоров с Антиохийским патриархом Игнатием IV, 9–10 марта — в Израиле, где он встретился с Иерусалимским патриархом Диодором. Заместитель К. Калужский и Боровский архиеп. Климент (Капалин) 11–12 марта провел встречи в Болгарии, 12–13 марта — в Польше. Митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий 8–10 марта посетил Сербскую Православную Церковь. К. продолжил консультации и с к-польской стороной: 10–13 марта в Швейцарии он провел переговоры с представителями К-польской Патриархии.
Необходимо было искать путь к компромиссу ради сохранения единства мирового Православия, к-рому односторонними действиями К-польского Патриархата был нанесен тяжелый урон. 3 и 22 апр. 1996 г. в Цюрихе состоялись переговоры по эст. вопросу, на к-рых были выработаны предложения, одобренные Синодами Русской и К-польской Церквей 16 мая 1996 г. В соответствии с этими предложениями правосл. клирикам и мирянам ЭАПЦ предоставлялась свобода выбора юрисдикционной принадлежности. Запрещенные клирики и отлученный от церковного общения мирянин были признаны Свящ. Синодом Русской Православной Церкви освобожденными от прещений. Не определившимся в своем выборе приходам предоставлялся 4-месячный срок для принятия решения. К-польский Патриархат приостановил на это время исполнение своего постановления от 20 февр. 1996 г. о возобновлении действия томоса 1923 г. На этих условиях восстанавливалось прерванное ранее общение между двумя Патриархатами. Сохранялась надежда, что это с трудом достигнутое решение, на к-рое Русская Православная Церковь пошла по крайнему снисхождению и лишь ради предотвращения раскола всемирной правосл. семьи, будет реализовано и положит конец противостоянию в Эстонии. Однако в течение 2 последующих лет, несмотря на постоянные напоминания, письменные и на переговорах, К-польский Патриархат всячески затягивал окончательное выполнение своей части обязательств.
Вслед за проблемами определения юрисдикционной принадлежности приходов стал актуальным вопрос о порядке регистрации учреждений Московского и К-польского Патриархатов в Эстонии. В 1997 г. состоялись встречи К. и секретаря ОВЦС по межправосл. отношениям игум. Елисея (Ганабы) с министром внутренних дел Эстонии Р. Лепиксоном, в ходе к-рых министр высказался в пользу скорейшей регистрации церковной структуры Московского Патриархата в Эстонии. Необходимость этого была обусловлена подготовкой к принятию нового закона, согласно к-рому все религ. орг-ции Эстонии должны были пройти перерегистрацию в МВД. Однако представители эстонского правительства предлагали самоуправляемой Эстонской Православной Церкви в составе Московского Патриархата регистрироваться в качестве епархии, представляющей подразделение иностранной религ. орг-ции и не могущей претендовать на правопреемство по отношению к довоенной ЭАПЦ, что фактически означало бы отказ от прав на историческое церковное имущество. Главным препятствием для справедливого разрешения этого вопроса власти Эстонии называли позицию К-польского Патриархата.
28 марта 2000 г. в Женеве вновь состоялись переговоры между делегациями Московского и К-польского Патриархатов. Делегация Русской Церкви, которую возглавлял К., выдвинула предложение решить проблему, заключив юридическое соглашение между 2 параллельными церковными структурами в Эстонии, предусматривающее право собственности на de facto используемое историческое имущество. Однако митр. Стефан, глава к-польской юрисдикции в Эстонии, участвовавший во встрече, выставил категорическое условие: не заключать никаких юридических соглашений, пока Московский Патриархат не признает возглавляемую им структуру единственной в Эстонии автономной правосл. Церковью. Делегация РПЦ отвергла это условие, справедливо считая, что так и не реализованные в полной мере цюрихские договоренности 1996 г. на данном этапе представляют собой предельный возможный церковный компромисс. При этом К-польский Патриархат, заявляя, что осложнение в решении имущественного вопроса «происходит от эстонского законодательства», отказался от дальнейших прямых переговоров между руководством 2 Церквей, сославшись на достаточные для решения этих вопросов полномочия архиеп. Стефана.
Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 2000 г. констатировал, что эст. кризис остается неурегулированным в связи с неисполнением к-польской стороной соглашений 2 Церквей, достигнутых в мае 1996 г. в Цюрихе, о предоставлении одинаковых прав, включая права на историческое церковное имущество, для всех православных в Эстонии. Конец 2000 г. ознаменовался новым витком эстонского кризиса, вызванным визитом Патриарха Варфоломея в Эстонию 26 окт.- 1 нояб. 2000 г. Русская Церковь не была уведомлена об этом посещении. И все же ОВЦС Московского Патриархата предпринял все усилия, для того чтобы использовать и этот случай для уврачевания 4-летнего конфликта. Представителям 2 правосл. юрисдикций в Эстонии было предложено издать в соответствии с достигнутыми в Цюрихе договоренностями совместную декларацию о восстановлении одинаковых прав для всех правосл. приходов, в т. ч. на историческое церковное имущество. Эти предложения были представлены на переговорах К. с к-польской делегацией во главе с митр. Мелитоном в Москве 20 окт. 2000 г. Однако к-польская сторона отказалась от предложенных инициатив. Более того, в ходе визита Патриарх Варфоломей и члены к-польской делегации неоднократно заявляли, что договоренности между 2 Церквами относительно церковного положения в Эстонии, заключенные в Цюрихе в 1996 г., нельзя толковать как «соглашение, допускающее существование в Эстонии двух параллельных православных юрисдикций», что в Эстонии может быть только один митрополит или архиепископ с титулом «всея Эстонии» «и в дополнение к нему — экзарх приходов, подчиненных другой, например Русской, Церкви» (Там же. № 167. С. 422–423). Выдвигалось даже требование, чтобы Московский Патриархат сместил архиеп. Корнилия.
К кон. 2000 г. стало очевидно, что К-польский Патриархат, пренебрегая договоренностями, достигнутыми в Цюрихе в 1996 г., осуществляет наступление на права Московского Патриархата и стремится вытеснить его из Эстонии. В заявлении Свящ. Синода РПЦ от 8 нояб. 2000 г. в связи с положением в Эстонии было отмечено, что «в сложившихся условиях было бы лицемерием демонстрировать миру наше единство, когда разрушено доверие и попраны основы братского соработничества на пути к подлинному уврачеванию тягостного разделения Православия в Эстонии». А потому «до времени восстановления согласия в вопросах канонического бытия православной Церкви в Эстонии и достижения мира и справедливости по отношению ко всем православным в этой стране Московский Патриархат решительно отстраняется от любых собраний с участием Патриарха К-польского Варфоломея, Преосвященного Иоанна, главы Финляндской архиепископии К-польского Патриархата, и Преосвященного Стефана, главы юрисдикции К-польского Патриархата в Эстонии» (Там же. № 168. С. 434). Русская Церковь отказалась от участия в проходившей в Стамбуле 25–26 дек. 2000 г. встрече глав и представителей Поместных Православных Церквей, в к-рой наряду с Патриархом Варфоломеем принял участие и митр. Стефан, а затем обратилась к главам Поместных Православных Церквей с просьбой дать оценку действиям К-поля в Эстонии. Ответные послания предстоятелей Александрийской, Антиохийской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской и Польской Православных Церквей не содержали поддержки позиции К-польского Патриархата. В них была выражена надежда, что эстонский церковный вопрос получит свое разрешение в ходе 2-сторонних переговоров К-польского и Московского Патриархатов.
Позиция братских правосл. Церквей помогла в продолжении переговорного процесса. Очередным его этапом стали встречи делегаций Московского и К-польского Патриархатов в 2001 г.: в Вене 16 янв. и в Берлине 19 февр. По инициативе К. участники переговоров обратились к Свящ. Синодам обоих Патриархатов с предложением призвать иерархов 2 правосл. юрисдикций в Эстонии заключить соглашение о прекращении имущественных споров, в соответствии с к-рым каждая из церковных структур получит права собственности на фактически используемое ею церковное имущество. Проект этого соглашения был одобрен на встрече в Берлине. Соглашение, текст которого был подготовлен для подписания митрополитами Корнилием и Стефаном, предусматривало, что структура, состоящая в юрисдикции К-польского Патриархата, «в течение 60 дней со дня регистрации устава структуры, находящейся в юрисдикции Московского Патриархата, либо передает в собственность последней вышеупомянутое церковное имущество на основании договоров дарения или купли-продажи по символической цене, либо передает его Эстонскому государству для последующей передачи этого имущества в собственность церковной структуры в юрисдикции Московского Патриархата» (Там же. № 172. С. 447). Подписание этого документа и воплощение в жизнь провозглашенных в нем намерений могло поставить точку в затянувшемся межцерковном конфликте. Московский Патриархат незамедлительно одобрил берлинский проект на ближайшем заседании Синода 22 февр. 2001 г. Содержательного ответа из К-поля пришлось ждать более 2 лет. 19–20 апр. 2001 г. в Цюрихе главы делегаций двух Церквей К. и митр. Филадельфийский Мелитон подписали коммюнике, подтверждавшее желание сторон «содействовать нормализации отношений между двумя православными юрисдикциями в Эстонии» (Там же. № 185. С. 470). К-польский Патриархат не мог более уклоняться от поиска совместных решений по преодолению кризиса в Эстонии.

Патриарх Алексий II и митр. Кирилл на переговорах с представителями власти
Эстонской республики. Таллин. Февр. 2003 г.
Тем временем в янв. 2001 г. эст. мин-во внутренних дел в очередной раз отказало в регистрации Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, потребовав, чтобы Эстонская Церковь признала себя новообразованной структурой. В связи с этим Русская Церковь заявила: «Московский Патриархат не оставит без внимания систематическое нарушение прав своих верующих и, взаимодействуя со всеми здоровыми общественными и политическими силами как Эстонии, так и России, употребит все возможности для скорейшего и справедливого решения вопроса… Положение, при к-ром значительная часть жителей европейской страны в течение длительного времени не может добиться легального статуса своей религиозной общины, является вызовом цивилизованному сообществу и не может не вызвать озабоченности международных организаций» (Там же. № 188. С. 480). К. предпринял энергичные шаги для обеспечения международной поддержки Эстонской Православной Церкви, а ОВЦС не упускал возможности свидетельствовать о продолжающемся нарушении прав православных верующих в Эстонии с трибун авторитетных международных орг-ций, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, в контактах с Комиссаром Совета Европы по правам человека А. Хиль-Роблесом и др. правозащитными органами. Инициативу К. поддержали мн. государственные и общественные организации России. Резонанс, к-рый эстонская церковная проблема вызвала в 2001 г., наносил все больший ущерб авторитету Эстонии и приводил к снижению внимания российских предпринимателей к сотрудничеству с эст. бизнесом.
Итогом совместных усилий Эстонской Православной Церкви, ОВЦС и широкой общественной поддержки стала регистрация 17 апр. 2002 г. МВД Эстонии Эстонской Православной Церкви. Впрочем, положение ЭПЦ Московского Патриархата (МП) не было уравнено с положением ЭАПЦ К-польского Патриархата. В частности, ЭПЦ МП является лишь арендатором церковной недвижимости, в то время как ЭАПЦ обладает правами собственности на здания, занимаемые ее приходами. Относительная нормализация положения ЭПЦ сделала возможным визит в Эстонию 25–30 сент. 2003 г. патриарха Алексия II, к-рый до своего избрания на Московский Патриарший престол был в течение четверти века митрополитом Таллинским и Эстонским. В поездке патриарха сопровождал К. Во время переговоров с премьер-министром Эстонии Ю. Партсом, Президентом Эстонии А. Рюйтелем, представителями Совета Церквей Эстонии патриарх твердо свидетельствовал, что принципиальной позицией Русской Православной Церкви остается необходимость обеспечения равенства условий, на к-рых обе правосл. структуры использовали бы церковное имущество, о чем была достигнута договоренность в Цюрихе в 1996 г. Ту же позицию патриарх изложил и митр. Стефану, которого вместе с К. принял по его просьбе.
К-польский Патриархат неоднократно предпринимал попытки явочным порядком добиться межправосл. признания своей структуры в Эстонии и одновременно жестко блокировал участие ЭПЦ МП в международных орг-циях. На ежегодной сессии центрального комитета Конференции европейских Церквей (КЕЦ) в мае 2006 г. представитель К-польского Патриархата Сасимский митр. Геннадий неожиданно для всех зачитал заявку ЭАПЦ к-польской юрисдикции о соискании членства в КЕЦ. Встречное предложение принять в КЕЦ также ЭПЦ МП вызвало негодование со стороны представителей К-польского Патриархата. Инспекционные группы, направленные в Таллин для изучения соответствия ЭАПЦ и ЭПЦ МП критериям членства в КЕЦ, вынесли положительные решения в отношении обеих структур. 30 сент. 2008 г. в ходе встречи с патриархом Алексием II и К. в Москве генеральный секретарь КЕЦ обещал сделать все возможное для того, чтобы ЭПЦ МП была принята в члены КЕЦ. Однако на сессии центрального комитета КЕЦ 6–11 окт. 2008 г. в Паралимни перед началом голосования по вопросу о принятии ЭПЦ МП греч. участники демонстративно покинули зал заседания. ЭПЦ МП не была принята в КЕЦ. Результатом стала приостановка членства Русской Церкви в этой межхристианской орг-ции. 8 окт. 2007 г. в Равенне началась 10-я встреча Смешанной международной комиссии по диалогу между Православной и Римско-католической Церквами. После прибытия в Равенну делегации РПЦ обнаружилось, что сопредседатель комиссии митр. Иоанн (Зизиулас) в одностороннем порядке привлек к работе в комиссии представителей ЭАПЦ. Делегация Московского Патриархата опротестовала данное решение и покинула заседание. В окт. 2008 г. делегация Московского Патриархата во главе с патриархом Алексием приняла участие в межправосл. встрече, организованной Патриархом Варфоломеем в Стамбуле. 1 окт. 2008 г. в Стамбуле К. получил заверения от Патриарха Варфоломея в том, что ЭАПЦ не будет представлена на предстоящей встрече. Однако митр. Стефан прибыл на встречу, и председателю ОВЦС пришлось выступить с особым заявлением о том, что присутствие делегации Московского Патриархата на встрече предстоятелей и представителей Православных Поместных Церквей не означает признания ЭАПЦ: «Наше участие в этой встрече не следует рассматривать как фактическое признание автономного статуса юрисдикции К-польского Патриархата в Эстонии. Подчеркиваем, что на данную встречу не следует ссылаться в будущем как на прецедент… Наше присутствие здесь является также ясным свидетельством готовности Московского Патриархата пройти свою часть пути, ведущего к преодолению существующих проблем во взаимоотношениях между Церквами» (Там же. № 230. С. 629).

На встрече предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей в Стамбуле.
10–11 окт. 2008 г.
В определении «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» Архиерейский Собор 2008 г. заявил, что нынешнее особое «видение Константинопольским Патриархатом собственных прав и полномочий вступает в непреодолимое противоречие с многовековой канонической традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной Церкви и других поместных Церквей, а также с их реальными пастырскими задачами по духовному окормлению диаспоры». Собор призвал К-польскую Церковь до общеправославного рассмотрения данного вопроса «проявлять осмотрительность и воздерживаться от шагов, могущих взорвать православное единство». В определении Собор призвал «к полной реализации ранее достигнутых соглашений по эстонскому церковному вопросу» и решительно отверг попытки К-польского Патриархата «создать видимость всеправославного признания своей церковной структуры в Эстонии в качестве автономной поместной Церкви без учета мнения и интересов подавляющего большинства православных верующих в Эстонии».
III. Еще одна угроза единству Церкви, потребовавшая от К. и ОВЦС напряженных трудов, возникла в Молдавии, когда в дек. 1992 г. Румынский Патриархат создал на канонической территории Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата т. н. Бессарабскую митрополию во главе с покинувшим юрисдикцию Московского Патриархата и запрещенным в служении еп. Петром (Пэдурару). В состав митрополии вошла территория, принадлежавшая Румынии в период между двумя мировыми войнами, включая Молдавию и нек-рые приграничные районы Украины. Одновременно в Сербию был направлен «румынский епископ над валахами». Эти события вызвали серьезный кризис во взаимоотношениях между Патриархатами, с одной стороны, Румынским, с другой — Московским и Сербским.
В окт. 1994 г. К. совершил поездку в Молдавию, где встретился и обсудил сложившуюся ситуацию с Кишинёвским митр. Владимиром (Кантаряном), Президентом Молдавии М. И. Снегуром и др. К. удалось консолидировать позиции законной церковной и светской властей. Архиерейский Собор 1994 г. даровал Православной Церкви в Молдавии самостоятельность во внутренних делах. Было утверждено и решение Свящ. Синода о запрещении в священнослужении Петра (Пэдурару) за создание незаконных церковных структур на территории Московского Патриархата. В февр. 1997 г. в Женеве прошла рабочая встреча делегаций РПЦ и Румынской Православной Церкви по вопросу о ситуации, сложившейся в Молдавии, встречи были продолжены в июне и сент. в Граце и Женеве. 15 янв. 1999 г. завершающие переговоры по проблемам, связанным с присутствием юрисдикции Румынского Патриархата на территории Молдавии, прошли в Кишинёве. К., возглавлявший делегацию РПЦ, отмечал, что удалось достичь понимания, что необходим поиск решений, позволяющих перейти от конфронтации и вражды к примирению и сотрудничеству, к поиску взаимоприемлемого решения канонических вопросов. В связи с решением вопроса о ситуации в Молдавии в целом Свящ. Синод по представлению К. заявил о готовности снять прещение с еп. Петра (Пэдурару). В докладе патриарха Алексия на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. была сформулирована «единственная канонически безупречная модель присутствия одной церковной юрисдикции на территории другой» — «структура приходов, объединенных в Представительство Румынской Православной Церкви в Молдове».
В 2002 г. переговорный процесс между Московским и Румынским Патриархатами был фактически прерван: в июне Бессарабская митрополия под давлением Страсбургского суда по правам человека была официально зарегистрирована властями Молдавии. В авг. К., посещая Молдавию, расценил это деяние светского суда как «греховное решение с политической подоплекой». митрополит подчеркнул, что мирской суд канонически и нравственно неправомочен выносить приговор по вопросам, относящимся к области внутрицерковной жизни и внутрицерковных отношений: «Здесь возникает принципиальный вопрос: насколько допустимо обращаться по каноническим вопросам в гражданский суд, заведомо зная, что суд этот не принимает норм канонического права и основывает свое производство на мировоззренческих принципах, возникших вне какой-либо связи с церковной традицией». По его словам, «раскол в лоне Православной Церкви Молдовы невозможно оценить иначе, нежели беззаконие, противоречащее христианскому духу» (РПЦ: Офиц. сайт ОВЦС). В нояб. 2005 г. патриарх Алексий II в. сопровождении К. посетил Молдавию, где встретился с президентом, премьер-министром и председателем парламента Молдавии; они обсудили пути выхода из сложившегося положения.
В окт. 2007 г. Синод Румынской Церкви заявил об открытии на территории Молдавии в составе т. н. Бессарабской митрополии Румынского Патриархата 3 епархий с центрами в городах Бельцы, Кантемир и Дубоссары. В заявлении Свящ. Синода РПЦ от 7 нояб. 2007 г. был выражен решительный протест против вторжения Румынской Церкви в канонические пределы Московского Патриархата. РПЦ призвала Свящ. Синод Румынской Церкви отменить принятые им постановления, разрушающие наметившиеся перспективы сотрудничества 2 Патриархатов и влекущие за собой хаос в мировой правосл. семье. В нояб. 2007 г. в Болгарии состоялись переговоры делегаций двух Церквей, завершившиеся безрезультатно. В июле 2008 г. группа из 44 священников «Бессарабской митрополии» во главе с одним из инициаторов раскола прот. Петром Бубурузом отказалась подчиняться Петру (Пэдурару). На специальном собрании клирики утвердили обращение к Румынскому патриарху Даниилу с просьбой принять их в свое прямое подчинение. Так образовался раскол внутри раскола. В докладе на Поместном Соборе 2009 г. К. подчеркнул, что Русская Церковь продолжает надеяться на урегулирование церковной ситуации в Молдавии: «Жизнь показала, что молдавское духовенство, как и прихожане, в подавляющем большинстве своем стремятся к сохранению церковного единства… Наша Церковь никогда не отказывалась от диалога и не прекращала общения с Румынской Православной Церковью, сознавая важность нахождения взаимоприемлемых решений, к-рые положили бы предел каноническому беспорядку и содействовали бы достижению высокого уровня двусторонних отношений».